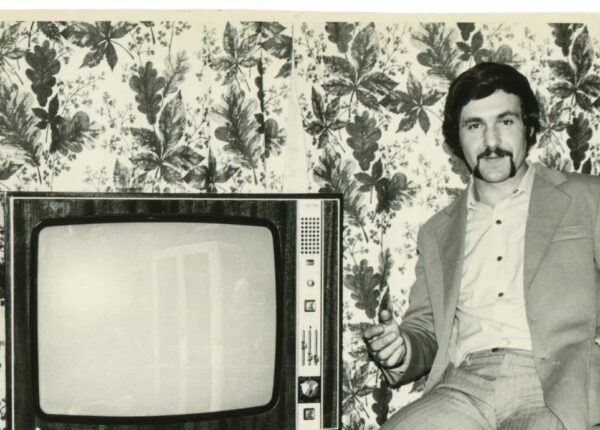Две войны: ветераны ВОВ о национализме
74 года назад народ многомилионной страны встал на защиту своей Родины. Плечом к плечу сражались воины-освободители против фашизма: украинцы и русские, грузины и татары, чеченцы и евреи. У ветеранов разных национальностей — разная история борьбы, но одна на всех победа. Герои проекта «Две войны» рассказывают не только о своём военном опыте, но и отвечают на вопрос «Есть ли на фронте национализм». Бигпикча в своей подборке представляет четырех героев проекта.


Родилась в Томске. Мой отец был из обрусевших греков, семья жила в Краснодаре, но я его никогда не видела. Считаю себя русской. После Краснодара мы переехали в Томск, а затем в Москву.
Когда началась война, было воскресенье. Накануне вечером мы поехали к своим знакомым на дачу — было тепло. Утром включили радио и услышали, что на нас напали немцы. Тогда я только окончила школу. Несколько лет я занималась в радиокружке, и в июне 41-го года вся наша группа пошла в армию. В середине августа из нас создали экипажи, выдали машины с радиостанциями, погрузили в грузовые поезда и отправили в Крым.
В Крыму мы остановились в деревне Огуз-Тобе. Ночью раздался жуткий грохот — в дом попала бомба. Соседняя половина дома была разрушена полностью, там погибли люди. Я вскочила, посмотрела на эту воронку и сказала : «Ну, повезло». Все, кто выжил на войне, — удивительно счастливые люди. Рядом с нами очень много людей погибло. Фотография: Фёдор Савинцев /

Краснодар тогда еще не знал, что такое война. На меня это произвело огромное впечатление. Был май, все ходили в летней одежде. Мы пошли в кино и посмотрели «Маскарад» по Лермонтову. Я оказалась в мирном городе. Было ощущение, что время сместилось. Только что тебя бомбили — и вдруг попал в мирную жизнь. Фотография: Фёдор Савинцев /

В феврале 43-го немцы в Сталинграде сдались. Мы шли пешком по льду на Волге, и я увидела поток немецких пленных, их гнали на другой берег и дальше на восток, в лагеря. Шла бесконечная вереница людей, они были обмороженные, на ногах — какие-то замотанные тряпками валенки. Картина совершенно жалкая, но жалко их нам не было. Фотография: Фёдор Савинцев /

В 1944 году я ездила в Москву. Моя радиошкола написала письмо Сталину с просьбой разрешить им на свои средства купить переносную радиостанцию для фронта. Вручить ее они решили своей воспитаннице Тамаре Александриди — то есть мне. Фото, где мне вручают станцию, после войны напечатали в журнале «Радио» с подписью «подвиг ее известен, а где она есть и что с ней стало, — нет». Фотография: Фёдор Савинцев /

9 мая тех, кто был свободен от дежурств, посадили в машины и повезли в центр Берлина. Мы ходили по Рейхстагу, гуляли возле Бранденбургских ворот. Вечером были колоссальные фейерверки, стреляли пушки. Я помню, что Симонов читал народу стихи, а Русланова пела песни.
После Берлина нас перевели в Дрезден, а из Дрездена я уехала в Москву. Я демобилизовалась, хотела учиться. После школы хотела пойти на радиофакультет и за неделю до войны поступила в Московский энергетический институт. Учиться продолжила после войны. У меня даже в справках годы учебы написаны — «1941-1951». Получилось десять лет. После войны вышла замуж. Мы с мужем вместе учились в МЭИ, а потом попали в Академию наук, в лабораторию к Исааку Семеновичу Бруку. Мы создали первую в СССР вычислительную машину.
У меня сын и дочь. Есть два внука и правнуки. Все в семье занимаются связью и вычислительной техникой, все — кандидаты наук. Муж – член-корреспондент Российской академии наук. Никаких бизнес-успехов у нас нет — всю жизнь на зарплату. Фотография: Фёдор Савинцев /

Я родился в городе Борисове Минской области. Мой отец был по паспорту русский. Дед фактически был русским, а жена деда — белоруской. Мать у меня еврейка — Кац Эсфирь Соломоновна. То есть я наполовину еврей получаюсь, но по паспорту я белорус.
Когда война началась, мне было девять лет. Я был в Витебской области, приехал к деду в деревню на отдых. Тогда приемников не было, и дошло каким-то образом до сельсовета, что началась война. Мой дядька взял карту, показал на ней, какая маленькая Германия и какой большой Советский Союз. «Вот идиоты, да мы их сомнем, значит. Война эта кончится, вот невидаль-то! Через неделю, через месяц, через два закончится». Такая была мысль, пока не вошли немцы.
5-го июля числа немцы были уже в местечке Черея. Без боя, без ничего. Спокойно расположились, купаются, им весело. Танки, значит, у них, все замечательно. Вот это война. Ай-ай-ай. Никто не стреляет. Немцы начали новый порядок: «Колхозы — это ужасно! Мы вам отдаем землю. Вы будете свободные люди». И к немцам очень много пошло народу. Фотография: Мария Ионова-Грибина /

Немцы ранеными заинтересовались. Приехали две немецкие санитарные машины забирать раненых, но те, кто мог, выползли через окна, спрятались в кустах сирени. А тяжелораненых немецкие санитары на носилки уложили, к машинам вынесли. Немецкий врач деду объяснил, что людей заберут в Вильно. А на самом деле вывезли за 10-15 км, расстреляли, бросили и уехали. Но сначала немцы старались показать, что они очень замечательные, что Сталин — это ужасно.
Полиция поняла, что дед помогает партизанам. Деда с бабкой арестовали и повезли в Чашники, но на обоз напал партизанской полк Садчикова. Деда захватили партизаны, и мы тоже ушли из Череи и оказались в партизанском полку Садчикова. Мать стала работать в редакции газеты «Народные мстители». Она переводила с немецкого, а я был мальчик на побегушках — разносил газеты в батальоны. В общем, числился в полку связным. Провел в полку Садчикова полтора года. Газета «Народный мститель» рассказывала людям правду, карикатуры на немцев рисовала. Меня никто никогда не ловил — кому нужен такой недоросль. Чего с меня возьмешь? Подруга моей матери жила на окраине. Я приходил к ней, отдавал газеты, ночевал на печке, слушал сказки, которые ее бабка рассказывала. Питался там. А утром я опять в полку Садчикова. Я отдавал газеты подруге матери, а она уже находила власовцев, те читали, и в конце концов весь власовский гарнизон перешел к нам в полк. Фотография: Мария Ионова-Грибина /

В апреле 44-го немцы загнали полк Садчикова в болото. Холодрыга ужасная. Лед подтаял. Я весь в этой воде, ноги обморожены. Есть абсолютно нечего третий день. Питались отзимовавшей клюквой и болотной водой. А я слабенький, отстал вместе с ранеными. Немцы лупанули по этому болоту минометами. Все побежали и меня кто-то толкнул в болото, и наверное, оглушило миной — лежу в воде. Еле вылез — никого уже нет. Увидел сухое место, куда раненые выползают. Я вылез, упал и заснул. Вдруг бабах — рядом выстрел. Очухался, а это немец пристрелил тяжелораненого из винтовки. Потом меня за шиворот поднял, а на мне куртка жены командира полка, которая скончалась. В куртке патроны, а я еще там два взрывателя красивых положил. Он такой: ага, понятно, кто я такой. И меня вместе с ранеными повели.
Оказался я в Лепельском концлагере. Немцы начали допросы. А чего я могу сказать? Кто командир, кто комиссар — и так знают. Пробовали что-то вышибать из меня, ничего не получилось. Причем допрашивали наши же ребята, русские и белорусы. Бросит животом на лаву, лупанет плеткой по спине: «Говори!» А я не знал ничего. Также у немцев было много раненых и им нужна была кровь. Втыкали мне в ногу трубку с физиологическим раствором — кормили-то плохо, а в руку — трубку, через которую кровь брали. И вот то, что из меня течет, — прямым переливанием к нему. Делали это опять-таки наши медсестры — русские и белорусские девочки, которые работали на немцев. Тебя травят, отключают, потом очухиваешься и идешь обратно в камеру.
Я в лагере пробыл дней двадцать — сбежал. Там был сортир за проволокой за колючей, и выводили по десять человек туда, а я увязался одиннадцатым. Я завозился и они ушли. Выполз и пошел обратно к себе. Подхожу к охране, а мне немец говорит: иди отсюда. То ли он меня не узнал, то ли пожалел — я не знаю. Я выскочил и дал ходу. Пошел на канонаду, где линия фронта. Фотография: Мария Ионова-Грибина /

А потом мне досталось по ноге, под немецким Мемелем. Нога зажила, и меня в духовой оркестр определили. Играл на барабане и на трубе — мать меня рано начала музыке учить, лет с пяти. Ноты знал, и на пианино играл. А тут на барабане и трубе — легко, бах-бах. В духовом были старики, в основном евреи. Командиром этого взвода был лейтенант Швабель, по-моему, или Швебель.
На довольствие меня оформили, когда я был у офицеров связи. Пошили форму, погоны, все как надо. По сравнению с партизанским отрядом была благодать. Еда была, в болото я не лез, спал в сухом. Наш музвзвод выступал перед батальонами в Восточной Пруссии. Стоит сарай немецкий громадный, на краю — обыкновенная передвижная кухня, где кашу и суп варят. Ну и вот мы выступаем, а потом кричат: «Славяне, выходи строиться!» И они пошли — надо наступать на Берлин. Фотография: Мария Ионова-Грибина /

Под Кенигсбергом меня ранило осколком по руке. И сейчас у меня рука плохо работает. Теперь вот судорога сводит, когда начинаю писать. Да и нога мешает. Первый раз открылась рана через 20 лет. Но операцию я решил не делать — уже девятый десяток, до смерти доживем.
После ранения мне выдали удостоверение и бумагу, направление в Суворовское училище. Отправили в город Борисов в Белоруссии — где я родился. Сейчас детей в пятом классе возят машиной через улицу в школу, а я из Восточной Пруссии доехал без поездов, без расписания, без ничего. Примазывался к эшелонам с солдатами или ранеными. Приехал домой в конце 44-го.
Я поступил сразу в третий класс борисовской школы, потому что уже хорошо читал — писал только плохо, рука не работала. Окончил всего семь классов, потому что сбежал из дому. Мне не понравилась жизнь дома после войны. Были для таких орлов детоприемники — меня поймали, и именно там я и оказался. В 16 лет поехал поступать в мореходное училище в Ригу. Это был 1950-й год, мне 16 лет. У меня все пятерки, прекрасная биография, а меня взяли и не зачислили — только ребят-латышей старались брать. Я этого не знал. Фотография: Мария Ионова-Грибина /

А после меня взяли в Ригу, где я когда-то работал монтажником. Смонтировал дворец спорта, получил медаль за доблестный труд, благодарность от ЦК партии. Потом пошел в науку. Защитил в Риге кандидатскую диссертацию, и перевели меня в Москву. Сделали меня директором «Снабжилища» по науке и директором экспериментальной базы Госстроя СССР. А потом СССР взял и ляснул (диалектное «развалился» — прим. ред.), и полетело все в тартарары. Дальше пошло нехорошо, конечно. Фотография: Мария Ионова-Грибина /

Я до сих пор продолжаю работать. Меня зовут, если что-то где-то ломается. Я же этим ремеслом занимаюсь уже 65 лет.
Очень долго у меня был белорусский акцент. Притеснений никаких не было, но в Прибалтике, конечно, приоритет всегда был у латышей. Прибалтика страдала от этого дела. Понятно, что дискриминация была, но поскольку я был покрепче, поопытнее, и что-то мог, был кандидатом наук, меня это не коснулось. На бытовом уровне, правда, было — когда заходишь в магазин, например. Идиоты хотели, чтобы говорил именно по-латышски. Но я все равно разбирался, покупал, что надо. Я и по-латышски немного говорю, но по-белорусски говорю хорошо. Фотография: Мария Ионова-Грибина /

Родилась в 1924 году в селе Дуванкой под Севастополем. Потом моя мать переехала в село Камышлы, и мы жили там. В школе учили на татарском. В 33-м году у нас был голод. Тогда многие дети умирали, и школы закрывались.
Я хотела после школы пойти учиться на летчика, потому что мой двоюродный брат был летчиком. Но поехала учиться на агронома в техникуме и в колхозной школе. Потом еще была на шестимесячных медицинских курсах. Техникум был в селе Цурюктау под Старым Крымом. Там жили немцы, которые приехали в Крым еще при Екатерине. Я научилась говорить по-немецки.
Мне было 16 лет, когда я попала в армию. В 41-м году у нас рядом с селом стоял 3-й морполк. Я стала бегать к комиссару полка и просить: «Товарищ, вы меня к себе зачислите, пожалуйста. Я комсомолка, я должна с вами воевать». Они меня вернули домой. А когда первые бомбы начали падать на Севастополь, я стала помогать военному врачу полка. Врач взял мой паспорт и меня, 16-летнюю, зачислил в полк. С июня месяца я была в полку.
В октябре, когда под Севастополь отступила 25-я чапаевская стрелковая дивизия, морполк перешел в нее. Меня зачислили в 756 минометный дивизион. 29 июня 41-го года в Сухарной балке я подбила танк.
Я была санинструктором. Мы забирали раненых с передовой в санчасть. Легких раненых оставляли у нас, а тяжелых отправляли в медсанбат в Инкерманских штольнях. Когда я возила тяжелых раненых в госпиталь, они меня просили не уходить, говорили: «Шурочка, держи мои руки, когда операция будет». И я держала, а потом быстро возвращалась на передовую. Фотография: Андрей Любимов /

Первое время я раненых бойцов стеснялась — молодая была. Потому что кому-то задницу оторвет, кому-то ногу. Нужно их раздевать. У мужчины все органы видно. Я была девчонка, 16 лет мне было. Главный врач приходил и учил меня: «Ты не должна стесняться, ты должна перевязки делать».
В 1942 году мы отступали от Камышлы. Севастополь бомбили по 500 самолетов. Они бросали на город бочки и рельсы. А когда рельса летит, от нее такой звук, что кажется, будто небо сейчас взорвется. От этого звука была страшная паника. Нам приказали эвакуироваться из Камышовой бухты. Подошел корабль, мы погрузили туда раненых, но в нос корабля попала бомба, и он утонул.
Из Камышовой бухты мы перешли на береговую батарею на мысе Херсонес. Это был наш последний выход. Туда все отступали: военные, мирные жители — все, кто не хотел попасть в плен. Оттуда мы уплыть не могли — не было кораблей. Мы дошли до Херсонесского маяка и держали оборону. Немцы боялись на нас наступать, потому что мы сидели в пещерах и были готовы их встретить. Там я тоже помогала раненым. Лекарств не было, поэтому мы мочили соленой водой тряпки и прикладывали к ране. Соленая вода не давала ране гноиться — как мясо солишь.
4 июля нас взяли в плен. Мы сидели в подземных окопах для летчиков — внизу, под аэродромом на Фиоленте. Мне сказали: «Шурочка, выйди посмотреть, что наверху». Я пошла наверх к аэродрому и увидела немцев. Они тоже меня увидели и стали звать. Я крикнула несколько раз, чтобы наши вышли, и мы всем гуртом поднялись наверх. Немцы приказали лечь лицом на землю, сидеть не давали. Потом один человек по-русски дал команду встать. Приехал на машине Манштейн, немецкий командующий и произнес речь.
В плену я была всего несколько дней. Эти паразиты заставляли нас ямы копать и мертвых хоронить. Три дня мы там провели, потом нас погнали в город. И когда мы дошли до Херсонесской бухты к старому кладбищу, командиры сказали, чтобы мы убегали. Бухту охраняли румынские солдаты. Они только есть любили, а стреляли не очень. И в бухту пришли женщины, они своих мужей искали среди пленных. Нас было шестеро в гражданской форме, к нам подошла бабушка и увела нас к себе домой. Румыны ничего делать не стали. Ее звали Анна Яковлевна, и она держала нас у себя две недели. Кормила. Мужчины переоделись, и немцы думали, что они местные рабочие. Мы побыли в городе, а потом пошли в Байдарскую долину к партизанам. Фотография: Андрей Любимов /

Как-то к нам в отряд привели пленных немцев. Один партизан нам и говорит — теперь ваше лохматое и грязное белье меняйте на то, что на немцах, берите у них, что хотите. Один партизан взял у немца ботинки, а свои отдал ему. А немец ругается — подметка у ботинка отваливается. Я ходила-ходила и увидела у одного немца в кармане вышитый носовой платочек. Немец на русского был похож — рыжий и с голубыми глазами. Я платочек взяла, отошла в сторону, а он так посмотрел на меня, как будто ничего я не брала.
Так я работала до 44-го года. 15 апреля партизанский штаб объединили со штабом 4-го Украинского фронта в деревне Соколиное. Тогда я встретила бывшего комиссара 35-й батареи Иванова. Он меня узнал, когда приезжал в штаб, и позвал обратно в 756-й минометный дивизион. С ним мы освобождали Севастополь и штурмовали Сапун-гору. Видели, как эсэсовцы друг друга расстреляли, чтобы не сдаться в плен. Последним остался фельдфебель и застрелился сам.
В Камышовой бухте еще в 42-м году один командир был тяжело ранен, умирал. Звали его Николай Иванович. И попросил меня матери его передать, что он погиб, защищая Севастополь. Адрес меня попросил записать. Город Саратов, колхоз Карла Маркса. Еще у меня были вещи погибших, сумка комиссара.
Я жила с заключенными, но статьи у меня не было. Оперуполномоченный спрашивал — какая у тебя статья, ты почему здесь? Я говорила, что не знаю, поймали. Меня как татарку наказали, наверное, — за то, в чем всех татар тогда обвиняли. Фактически я была в лагере, но без суда и без статьи. Теперь я думаю, что меня из-за моего имени и национальности забрали. Потом, наверное, они через КГБ начали выяснять, где я служила. Все выяснили, и через три месяца обратно в Крым вернули. Фотография: Андрей Любимов /

В 47-м году я жила в Ташкентском районе, работала бригадиром и табельщицей в хлопководстве. Я была на приеме у генерала-контрразведчика, он был моим однополчанином из Севастополя — они многие поехали в Ташкент командовать переселенцами. Так вот он мне помог, нашел, где работать, сказал: «Шурочка, езжай в Самарканд, там климат похож на крымский». Дал направление.
Там я познакомилась с мужем. Он азербайджанец, в Узбекистане служил срочную службу. Мы с ним прожили всего пять лет. Его родители приехали и забрали своего сына домой, я вместе с ним поехала, но не смогла там жить. Родня мужа жила в Нагорном Карабахе, тогда они еще жили в землянках — и это уже при советской власти. Я это увидела, сказала ему: «Навруз, спасай здесь себя, своих родных, а я буду наших детей спасать». И вернулась в Самарканд. У меня трое детей. Пять лет назад моя дочка ездила его искать — нашла и привезла сюда. Так через 45 лет мы увиделись с мужем.
В 66-м году меня через журнал «Работница» нашли однополчане, и я поехала в Севастополь. Ездила на встречи ветеранов. В начале 70-х переехала в Крым. Меня долго не хотели пускать обратно, пустили по распоряжению Подгорного, председателя Президиума Верховного Совета СССР. Фотография: Андрей Любимов /

Родился я 11 июня 1922 года в селе Копти Козелецкого района Черниговской области. Учился там до седьмого класса.
По национальности я украинец, но по-украински говорю плохо. Так получилось, что учительница по русскому языку в средней школе у нас была очень сильная, а вот украинский преподавала жена главного врача, и ей не хотелось нас перегружать, она нас жалела. Русский мы сдавали на отлично, а украинским она нас не пичкала. Хотя количество часов на украинском было даже больше, чем на русском. В семье дома я говорил на украинском. А когда после войны в отпуск приезжал — уже на русском. Я не знаю даже, кем я себя чувствовал — русским, украинцем или кем-то еще. В деревне старались жениться на своих, но потому что знали друг друга от и до, а не потому что кто-то русский, а кто-то украинец.
Про национальность у нас абсолютно никто никого не спрашивал. Вот к нам приехали переселенцы из Мурома, две семьи. Они говорили на русском языке, а украинский даже не понимали. Но всячески старались выучить украинский — пусть он у них был ломаный, но старались. И никто их не упрекал в том, что они муромчане или татары. Наоборот, всячески помогали им. Помогали им подобрать хороший скот и так далее.
Родители были крестьяне, занимались хозяйством своим. Трудились круглыми сутками. Папа был секретарем поселкового сельсовета. Нас было пятеро детей. Папа старался, чтобы все получили хорошее образование, так оно и получилось.
В 37-м году папе предложили переехать в Олишевский районный центр Черниговской области. Там его назначили секретарем райсовета. Учился я там до 39-го года. После того, как почувствовали, что пахнет керосином, принял решение поступать в военное училище. Родители между собой говорили, что наступает период войны. Даже раньше 39-го года стало понятно.
Поступил в Харьковское пехотное училище. 15 мая 1941 года поступил приказ о назначении нашего батальона. Командир учебного взвода из моего училища был начальником эшелонов наших выпускников. Когда приехали, скелет дивизии уже был в лесу расположен и поступало пополнение. Назначили меня командиром стрелкового взвода. Он хотел, чтобы меня назначили командиром роты сразу. 223-я стрелковая дивизия. 1077-й полк. Первая рота первого батальона. Фотография: Антон Педько /

О войне никто не объявлял, сразу понятно было. Нас вывели в лес, выдали технику, сказали рыть окопы. Это было еще раньше 22 июня 1941 года. А 22-го уже бомбежка началась, мы, правда, не попали под нее, но взрывы авиабомб были слышны. Когда погрузили нашу дивизию в эшелоны, я задумался: вооружен я был пистолетом, а что я могу сделать с пистолетом в обороне или наступлении? Пришлось в процессе оборонительного боя взять винтовку у первого, кто был ранен или убит. И сразу настроение другое — ты можешь оказать сопротивление. Нас в училище тренировали штыковому бою каждый день по часу. Самое главное — не отвлекаться, а смотреть в глаза противнику. И я всегда делал звериные глаза.
В пехоте не так просто остаться в живых. Я покомандовал месяц-полтора взводом, а потом контузило. Когда вылечился, меня сразу назначили командиром роты. Можете представить — девятнадцатилетний лейтенантик, а уже командир роты. Это 130-140 человек. В 20 лет я уже получил батальон. Но опять долго не повоевал во главе батальона — четыре месяца, и ранение. Так что я за период войны набрал контузию и три ранения. Начал войну лейтенантом, а закончил капитаном.
Первый бой хорошо помню. Наш полк вышел, занял оборону. Немец появился где-то суток через двое. Разведчики пришли на танках и бронетранспортерах. Они пощупали нас, а мы им нанесли сразу большие поражения. Ошибка была в том, что полк занял большую широкую площадь в одну цепь, а это очень просто прервать можно было. И они разведкой это увидели в этом бою. Тут слабая оборона, а тут вообще никого нет. Наш полк сразу попал в окружение. Правый фланг входил в лесной массив. Раз в лесном массиве, то и нам трудно ориентироваться, и противнику. Побыли двое суток в окружении, повели бой, а потом принято было решение прорываться — прорвались в глубину леса. Это было в районе Винницы. И вот в 70-80 км от Винницы мы и заняли оборону. А когда усилилось наступление, поменяли позиции, километров 10-12 отошли. Мой первый бой был где-то в начале августа месяца.
После контузии меня отправили в госпиталь в Днепропетровск. Контузило меня в августе, полная потеря сознания. Потом в Донецке назначили командиром роты. Когда оборонительные бои вели, меня отправили на армейские курсы повышения квалификации из Донецка. В Донецке я повоевал с октября по июнь месяц 42-го года. Когда в Сухуми прибыли, перешли в распоряжение 18-й армии Северо-Кавказского фронта. Там меня назначили командиром батальона. И в этих боях — это Туапсинское направление — я провоевал три-четыре месяца. Был тяжело ранен, и отправили меня на лечение в Цхалтубу, в глубину Грузинской республики.
С курсов меня зачислили в 32-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. Наша дивизия охраняла перевал Елизаветы Польской. Недели две все атаки отражали, а потом стали заканчиваться боеприпасы, продовольствие. Не смогли, в общем, удержать этот перевал. И там я был ранен в ногу — вот сюда осколок попал. Кувырком оттуда покатился под обрыв, и там меня уже подобрали. Когда мы отступали, все равно были уверены, что наступит время и будет победа. Фотография: Антон Педько /

Участвовал в форсировании Керченского пролива. После того, как освободили Севастополь, перебросили в Белоруссию, дальше — Прибалтика, Восточная Пруссия и Кенигсберг. А потом война закончилась. Мы прикрывали морские десанты там же, за Кенигсбергом, чтобы немцы не высадили с моря свои войска.
Разведчик должен высадиться первым, захватить пленного, и тут же мы его допрашиваем. У нас четыре переводчика были, которые в совершенстве владели немецким языком. Только захватили— и уже через 15 минут знаем, какая там группировка. Я немецким не владел. Я немецкий язык в футбол проиграл. Когда в 8 классе учились, пришел к нам преподавать немецкий язык после института молодой преподаватель-спортсмен — любил футбол. Пока сезон футбольный не закончился, мы ни одного занятия по немецкому языку не провели. Тогда ж еще не думали о войне — зачем тратить время на немецкий язык, если еще русский есть, алгебра. А оказалось, что нужен был.
Подготовка по захвату пленного могла месяц занимать. Начинаешь с того, что наблюдаешь из укрытия с перископчиком. Так изучали передний край противника. И как-то под станицей Крымской нашли мы слабое место. Ну, мы штурманули и всех их пленили. Ни одного не убили. Человек двадцать я брал для этой операции. Или были случаи такие, что привлекали крупнокалиберную артиллерию, делали проволочное заграждение и с саперами минные поля. При помощи самоходных орудий на скорости высаживались в этом месте — и мы уже в их траншее.
Пленных я брал 42 человека, это с окопа. Это за весь период. А при наступлении — ну, 250 человек, например, сразу захватили. Под Феодосией перебили всех вместе с партизанами, а пленили только около 300 человек. А сколько перебили, даже не знаем. А этих 300 человек мы отдали партизанам. После войны я встречался с командиром этого партизанского отряда и спросил, как он поступил с этими пленными. А он ответил: «Что они с нами делали, то и мы». Я говорю: «Так у вас же боеприпасов мало было». А он: «А зачем? Мы их перерезали».
Были случаи, что и наши ребята в плен попадали. Их обычно жестоко убивали. На этот случай у меня был парабеллум. Убитых из моих разведчиков за весь период было человек 20-25.
После войны мне было 23 года. Я был капитаном, и меня послали в Высшую разведшколу вооруженных сил в Подмосковье. А я понимал, что это такое — твоя жизнь будет постоянно на волоске. Потом будешь сам не свой, потому что тебя пошлют куда-то настоящим шпионом — без семьи, без ничего.
Я понял, что оттуда надо мотать — чем раньше, тем лучше. Начал по ночам кричать, в атаку ходить во сне — за нами же наблюдали, когда мы спали. В конце концов вызвали меня и спросили — у вас желание есть учиться? Я сказал, что нервы у меня очень расшатаны, и на следующий год я готов приехать, а пока надо здоровье укрепить. А генерал мне отвечает: «Ну, ты правду скажи, если не хочешь». Я подтвердил. Он мне сказал, чтобы я не волновался — под сокращение не попаду.
Меня послали в отдел кадров Московского военного округа. Стал офицером управления боевой подготовки, инспектировал воинские соединения. Потом меня перевели в Киевский военный округ, а оттуда поехал учиться в Академию имени Фрунзе. В 60-х я был в Севастополе, служил начальником штаба гражданской обороны города. Я женат, есть дочь, внук и два правнука. На пенсию я ушел в 71-м году, по болезни. Война сказалась на здоровье. Фотография: Антон Педько /
Смотрите также — Подписи войны
А вы знали, что у нас есть Telegram?
Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!
 20 невероятных кадров, доказывающих, насколько важен ракурс, когда фотографируешь
20 невероятных кадров, доказывающих, насколько важен ракурс, когда фотографируешь
 «Чокнутый Бруно»: история самого страшного маньяка Европы, убившего 85 человек
«Чокнутый Бруно»: история самого страшного маньяка Европы, убившего 85 человек
 Фюрер из Кентукки, или Как самозванец строил космический флот рейха
Фюрер из Кентукки, или Как самозванец строил космический флот рейха
 20 трендов из нулевых, с которыми приятно распрощаться
20 трендов из нулевых, с которыми приятно распрощаться
 "Да это же гениально!" - 15 простых решений повседневных проблем
"Да это же гениально!" - 15 простых решений повседневных проблем
 Убийственная страсть: 6 самых жестоких пар в истории криминала
Убийственная страсть: 6 самых жестоких пар в истории криминала
 Нас стало слишком много, и это невозможно изменить
Нас стало слишком много, и это невозможно изменить
 6 истинно немецких качеств, которые раздражают наших людей
6 истинно немецких качеств, которые раздражают наших людей
 "Белинский каннибал" Александр Бычков: история маньяка, женившегося на американке
"Белинский каннибал" Александр Бычков: история маньяка, женившегося на американке
 Дерзкая эротика от венгерского фотографа-портретиста Лайоша Чаки
Дерзкая эротика от венгерского фотографа-портретиста Лайоша Чаки